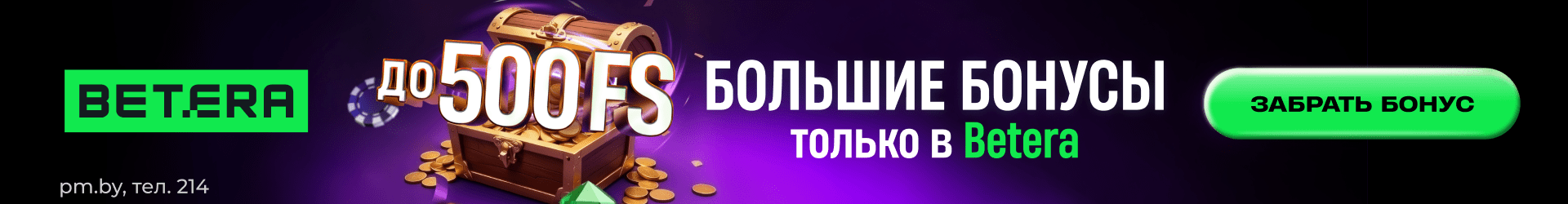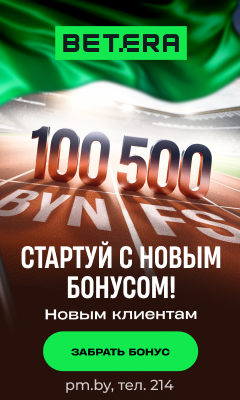В апреле Виктор Гусев на несколько дней приезжал в Минск. Цель поездки пока придержим в секрете. В паузах между работой на проекте ведущий и диктор Первого канала России специально для sport5.by погружался в воспоминания, которых в его богатейшей биографии набралось на увлекательную книгу, и та, кстати, несколько лет тому назад увидела свет. Виктор Гусев о службе в Эфиопии, юношеских чувствах к американской девушке, работе в хоккейном ЦСКА, ТАСС и на Первом канале, о проектах "Последний герой" и "Герои. Перезагрузка", о бое с быком и порванном плече…

— Для телевизионного журналиста у вас фантастический профессиональный опыт. Взять те же совместные поездки по США с хоккейным мэтром Анатолием Тарасовым.
— Да, мне как-то с подобными событиями везло: принимал участие в спасательной экспедиции в Антарктиде, служил в армии в Эфиопии. Но тут такое дело, что я ни от чего никогда не отказывался.
— Но и ваш дедушка — знаменитый литератор, а папа — многолетний декан биологического факультета МГУ. Плюс ко всему у вас есть немалый неспортивный опыт на телевидении. В начале нулевых вы вели шоу "Последний герой", которое стало легендарным.
— Между "Последним героем" и проектом "Герои. Перезагрузка" я участвовал в шоу "Большие гонки", которое вёл Дмитрий Нагиев. Там я выступал в нескольких ипостасях. В первом сезоне, который снимался во Франции, в самом первом конкурсе я вышел против быка, на глазах которого нужно было делать какие-то манёвры. В нашей команде были футболист Мостовой, борец Бароев и хоккеист Ковальчук. Илья Ковальчук вообще приехал на свой страх и риск, ведь НХЛовский контракт ему запрещал заниматься чем-то подобным. И вот бык вышел и бросился из этой компании именно на меня. Слава богу, что у него на рогах были насадки-шарики, похожие на те, которые у клоунов на носу. Он пробил моё плечо, но не насквозь, а порвал суставную сумку. И даже это было не всё: бык наклонился надо мной, но вдруг подошёл олимпийский чемпион по борьбе Хасан Бароев и просто переставил его. И я понял, что это был всего лишь бычок — у страха глаза оказались велики. Именно таким образом я побывал участником проекта. А вот на следующие "Большие гонки" меня пригласили в качестве капитана команды, а в подобном шоу эта роль выглядит примерно так, как, например, у Шамиля Тарпищева в теннисе. То есть он фактически выполняет роль главного тренера. И вот именно таким тренером я стал для своей команды, а Дмитрий Нагиев был по-прежнему ведущим.
— "Последний герой" стал легендарным проектом для постсоветского телевидения. Почему?
— Для съёмок первых двух сезонов проекта "Последний герой" продюсеры собирали обычных людей, которых готовили в определённом тренировочном лагере. То есть всё было на самом деле. В таком русле прошли два дебютных сезона, и Константин Эрнст, глава Первого канала, после сказал, что нужно либо закрывать шоу, либо его как-то менять. Потому что третий сезон может стать абсолютным повторением. И тогда ему в голову пришла гениальная идея — пригласить в качестве участников знаменитостей.
— На тот момент — нечто совершенно новое?
— Действительно. Ведь тогда ещё не было даже "Ледникового периода". Приходилось быстро принимать решение, и Константин Эрнст нас всех также быстро собрал. У меня сложилась забавная ситуация. Говорю, что не могу поехать, поскольку комментирую чемпионат России по футболу, который на тот момент продолжается. Но Эрнст, не сильно внимательно следящий за футболом, всё заранее проверил, и сказал мне, что чемпионат уже закончится ко времени съёмок "Последнего героя". Но он не знал и не мог знать, что будет переигровка за первое место между "Локомотивом" и ЦСКА. И вот собирают нас в большом кабинете за общим столом, Константин Львович говорит: "Сейчас я вам представлю ведущего этого проекта". И я начинаю вставать, поскольку был уверен, что ведущий — это я. Но тут открывается дверь, и входит Николай Фоменко. Оказалось, что меня видели не ведущим, а участником этого шоу.

— Этот момент ударил по самолюбию?
— Нет, ни в коем случае! Может быть, роль участника в какой-то степени и интереснее. Там собрали разных звёзд: певец Владимир Пресняков, актриса Марина Александрова, шоумен Иван Демидов, знаток из "Что? Где? Когда?" Александр Бялко и другие. Все вокруг думали, что это шоу станет одной большой постановкой. Мол, мы будем играть свои роли на острове, а нам будут привозить еду. Но оказалось, что еду нам никто привозить не собирался. Режиссёры посчитали, что в таком случае не будет блеска в глазах, а голодного человека сыграть невозможно. И всё, что было на экране, было именно таким и в жизни. Я продержался 18 дней, сбросил 12 килограммов. Нам давали по 100 граммов риса в день, хотя не должны были ничего давать. По американскому принципу подобного телешоу, участникам не дают ничего, кроме туалетной бумаги (а в США не могут почему-то без нее). И ещё, по американским правилам, остров должен быть таким, чтобы там можно было добыть еду. Но на нашем острове с этим было сложно.— И как вы выкрутились?
— Рис. Плюс за некоторые конкурсы давали ведро рыбы. Это было прям пиршество. А были конкурсы, когда давали торт. И представьте, что группа людей, которая долго не ела, набрасывается на торт. С желудком там проблемы были тут же…
— Вы сравнивали современные проекты с отражением современного клипового восприятия информации. Как к этому относиться?
— Как к данности. Но эмоции остаются живыми во все времена, и когда дело доходит до слёз и подобного выражения чувств, это притягивает всех.

— Вас называют голосом поколений. Каково им быть?
— Здесь велика доля совпадения, ведь я пришёл на телевидение, когда мне было 37 лет. И к тому моменту уже сделал себе имя в журналистике: работал пресс-атташе хоккейной команды ЦСКА, у меня был свой футбольный журнал "Матч", который был первым футбольным в стране. Меня знали как журналиста, и в 1992-м году во время Олимпиады в Альбервилле ко мне обратились телевизионщики. Время стремительно менялось, в том числе телевидение, и дикторы в классическом формате уже были не нужны. А востребованы были те журналисты, которые могли дать в эфире авторский взгляд. И я сразу начал вести еженедельную программу, а затем и новости в программе "Время". В декабре 1993-го года меня отправили на жеребьёвку футбольного чемпионата мира-1994 в Лас-Вегас. Всё просто совпало, поскольку я работал в хоккейном клубе ЦСКА, партнёром которого был клуб НХЛ "Питсбург Пингвинз". Я был в командировке по их линии в Нью-Йорке. Раздаётся звонок с телевидения (а деньги все экономят), и предлагают мне слетать в Лас-Вегас на жеребьёвку. Там была и скандальная ситуация: на нее приехал Пеле, и из-за этого Марадона отказался участвовать, поскольку на тот момент они были на ножах. И вот это был мой первый репортаж. Тут же я стал комментировать: первый матч в Стамбуле в апреле 1994-го между "Галатасараем" и "Спартаком" в Лиге чемпионов. По его итогам решили, что мне можно доверить работу и на чемпионате мира по футболу в США. На мундиале для разгона я получил назначение на несколько матчей, и следом — финал под Лос-Анджелесом Бразилия — Италия. Бразильцы, как известно, выиграли по пенальти, в том матче лучший игрок чемпионата Роберто Баджо пробил 11-метровый выше ворот. Было так жарко, что я в первый и последний раз комментировал в трусах. Интересно тогда было и соперничество каналов. Позади меня сидел дуэт комментаторов Олег Жолобов и Геннадий Орлов — они работали для Второго канала. И, завершая первый тайм, кто-то из них сказал: "Теперь переключите ваши телеприёмники на Первый канал, и о матче вам продолжит рассказывать Виктор Гусев". Сейчас такое соперничество представить невозможно. Так вот и делили матчи. Время было в какой-то степени едва ли не детское. Ну, поделили и поделили. Это сейчас борьба за телеправа!— В профессии вы долго, но сохраняете к ней интерес. Это тоже стечение обстоятельств?
— Конечно! Но с другой стороны я мог прийти на телевидение в том возрасте, в котором сейчас приходят ребята, — это 18 лет. Представляете, какой бы был у меня стаж, ведь я мог попасть на ТВ на 20 лет раньше. А я пришёл в 37, и на сегодня не насытился телевидением. Да, я ветеран, но в том смысле, что с 1992-го работаю только на Первом канале. Но есть те, кто гораздо дольше меня на телевидении. Но вообще я считаю себя больше пишущим журналистом.
— До сих пор?
— Да, ведь всё с этого и начиналось, и я с удовольствием пишу и сейчас. Также мне нравится и формат радио. Но в телевидении ты отчасти зависимая фигура от того, как тебя покажут операторы, как будет настроен звук. На радио с этим проще. А когда ты пишешь, вообще сам себе хозяин. Несколько лет назад появился телеканал "Матч ТВ", на который меня, кстати, звали. Но я уже прикипел к Первому каналу. А что касается каких-то комментариев по договорённости, то я не могу по контракту с Первым каналом работать на конкурирующей кнопке. Я готовился к ЧМ по футбол в Катаре, но Первый канал отдал свои права "Матч ТВ", который показал форум в полном объёме. И пусть там не было сборной России, чемпионат мира всё равно интересен российскому зрителю. Но это касается футбола. А вот в хоккее иная ситуация — отсутствие России кардинально снизило интерес к чемпионату мира. Поэтому моя работа на телевидении связана сейчас в основном с подготовкой спортивных новостей в ожидании того, что появится возможность комментировать.

— Ну, а мы привыкли смотреть чемпионат мира по футболу без сборной Беларуси.
— Действительно, чемпионат мира по футболу смотрят все. Я прекрасно помню 1998-й год: сборная России не попала в финальную стадию. И мы на канале обсуждали, что наши не едут: стоит ли показывать? Но руководство решило так: "Ничего страшного, хорошие рейтинги, вся наша страна вообще за Бразилию болеет. И программу будем делать с места событий и всё покажем". Футбол выходит за рамки спорта. А вот с хоккеем такую же ситуацию представить невозможно.
— Классические формы и жанры журналистики теряют актуальность и умирают?
— Я бы так не сказал. К ним прибавляются новые. Я имею в виду интернет-формат, в том числе подкасты. А к вопросу умирает ли телевидение… Так оно не умирает. Просто уходит в интернет, оставаясь тем же самым телевидением. Старые формы сохраняются. Вот у нас большая страна, и пока все технологии дойдут до каждого её уголка… Все включают телевизор и основные каналы. Или давайте посмотрим с другой стороны. Вот говорили: "Всё, газет больше нет, газеты умирают". А пройдитесь по Парижу по Шанс-Элизэ — там горожане пьют кофе и читают газеты. Да, кто-то сидит с телефонами, но очень много людей читает именно газеты, которые продаются в большом количестве в киосках. И даже там это ещё не умерло.
— Ваши коллеги из телеиндустрии активно используют YouTube, но вас там вроде бы и нет.

— То есть вопрос о востребованности вам задавать не стоит?
— Не зря же мне из Минска позвонили и пригласили. А потом по приезду один день отдохну, а следом — 100-летие "Динамо" (Москва). А все знают, что это мой любимый футбольный клуб. Они снимают мультфильм о "Динамо", где я становлюсь мультипликационным героем. Это очень интересно. Поучаствую в этом — следом открытие клубного музея. Буду выступать на протяжении дня, проводить экскурсии. И так каждую неделю. Плюс по первой профессии я переводчик, занимаюсь конгрессами Международной федерации хоккея.
— До сих пор?
— Сначала немного этот процесс прервал ковид, и мы перешли на дистанционную работу. Потом нашу делегацию не пригласили на чемпионат мира-2022, но всё равно переводил принципиальные моменты голосования конгресса ИИХФ, хотя раньше занимались всем. Благодаря Международной федерации хоккея увидел весь мир, поскольку начал сотрудничать с ней с 1994-го года, как её возглавил Рене Фазель. Он и сделал русский одним из официальных языков организации. До этого был французский, английский и немецкий. И вот с того времени отработал 58 конгрессов, поскольку иногда они проводятся дважды в год, иногда трижды. Плюс один конгресс ежегодно проходит в традиционно хоккейной стране, в той, где состоится и чемпионат мира. А второй — в экзотических местах: на Канарах, Тенерифе. И все эти конгрессы — часть моей жизни.
— Рене Фазелю в конце его многолетней работы во главе ИИХФ крепко доставалось от критиков. Но сейчас, когда организацию возглавил Люк Тардиф, многие стали понимать, что Фазелю удавалось склеивать эти разные хоккейные миры.
— Конечно. Но его критиковали только по той причине, по которой критикуют любого, кто долго находится у власти. А так он потрясающий и очень умный человек, сообразительный и ненадменный. На самом деле любую позитивную черту характера можно ему присвоить. Он также очень хороший друг. Мы сильно с ним сблизились с 1994-го. Рене действительно склеивал разные полюса хоккейного мира. Но Люк Тардиф (нынешний глава ИИХФ — прим. авт.) попал в непростую ситуацию, а у Фазеля подобного, слава богу, не было. Максимум — это подошёл ковид. А вот сейчас, когда читаешь выступления Тардифа, понимаешь, что у него единственный тезис за отстранение: "Мы это делаем из-за проблем с безопасностью". То есть российским хоккеистам опасно ехать в Европу, а европейским командам — в Россию. И это единственная причина. Понятно, что и правительства давят на Международную федерацию. Голоса в ИИХФ разделились в зависимости от властей. Швеция, Чехия, Финляндия, например, против возвращения России на мировую арену. А вот американцы и канадцы (хотя, казалось бы!) за участие российских и белорусских хоккеистов. У спортивных организаций США вообще особая позиция. Взять НХЛ. В этой лиге ничего не изменилось. Как у них играли наши, в том числе Александр Овечкин, так они и продолжают играть. Как будто бы ничего не происходит вокруг. И попробуй скажи боссам лиги — ответят: "Вы нам не диктуйте, у нас такие деньги! Всю жизнь на это работали, чтобы из-за ваших каких-то задач всё перечёркивать. Будем жить так, как жили".
— При этом Александр Овечкин всегда поддерживал Президента России.
— Да. И всё спокойно по отношению к россиянам в НХЛ, никто никого не трогает. Американцы и канадцы в хоккее хотят, чтобы Россия играла, поскольку без нас скучно на чемпионатах мира. Критерий — это зрительский интерес. Хоккей — шоу-бизнес, игра. И в НХЛ задаются вопросами, почему они должны думать о мировой обстановке? Поэтому мнения в ИИХФ разделились. Но наверняка на шведов и чехов давят их правительства.

— Хотел услышать ответ на вопрос, поглотит ли Интернет телевидение и умрет ли оно? Но из услышанного выше понимаю, что такого не произойдёт.
— Допустим, нахожусь у себя дома за городом, и вдруг что-то случилось с антенной — не принимают каналы на телевизоре. На нем же захожу в Интернет и смотрю те же каналы, но в сети. И спустя время уже забыл про это. Так какая разница, где это показывают? Всё очень условно.
— Мы живём в эпоху спортивных санкций. Вы во время своей службы в армии находились в стране в военном положении. Сейчас сложная политическая ситуация. Ваш прогноз: чем всё закончится?
— Мне тут очень сложно судить, поскольку это совершенно разные ситуации. После окончания института меня призвали военным переводчиком в армию. И не мог знать, куда именно меня могут отправить, тем более уже был в звании лейтенанта. Начали оформлять в Ирак. На тот момент страна совершенно невоенная. Прекрасный порт города Басра, который спустя годы разбомбили. Советский союз туда поставлял оружие, поэтому там работали наши специалисты, рядом с которыми был и переводчик. Но в августе 1977-го года всё в одночасье поменялось, когда началась война Эфиопии и Сомали. Меня переоформили. Мама плачет... А отправили туда на два года. Мы зависимые люди, и у нас во время службы была ротация. Начинал переводчиком главного военного советника, жил в городе, ходил в бассейн гостиницы Hilton. Проходит полгода, и наши привозят из Москвы парня, который знает и английский, и местный амхарский. А я поехал с одним из наших специалистов на фронт.
— Вы видели войну?
— Мы сидели в окопе, и я удерживал военного советника, чтобы не бежал в атаку. Естественно, ни в кого не стрелял, но пули вокруг свистели. Держу этого майора, потому что, понимаете, он военный человек, всю жизнь готовился к подобному. А здесь его начинает обуревать азарт. И я говорю: "Товарищ майор, вам не стоит туда лезть". Меня также отправляли в центр подготовки израильских лётчиков. Израиль воевал на стороне Эфиопии, нам запрещалось говорить об этом партнёрстве. Далее опять работал в штабе, затем — снова на фронт. То есть была такая ротация переводчиков, которые смогли увидеть всю картину происходящего. Но со мной ничего не случилось. Правда, один мой знакомый погиб, другого контузило. И всё время вокруг витала мысль: "Ради чего всё это?" Потом она ушла. Просто хочется, чтобы выжили те, кто рядом, и чтобы победили эфиопы. Не по той причине, что это справедливо и честно, а потому что с ними работаешь, их уже знаешь. А конфликт у них был сумасшедший. Обе страны, Эфиопия и Сомали, объявили, что строят социализм. Глава СССР Леонид Брежнев три месяца сомневался, на чью сторону встать. И все это время были и советники, и переводчики на стороне Эфиопии и на стороне Сомали. Брежнев выбирал, поскольку к нему ездили представители и руководители обеих стран и говорили: "Мы за социализм, мы за социализм! Поддержите нас!" И так мы сидели на двух стульях, пока не было принято решение в пользу Эфиопии. Далее советников с переводчиками просто вывезли из Сомали, а технику не стали забирать. Просто перестали поставлять запасные части. И в результате через год Эфиопия победила. А конфликт заключался в том, что в их пустыне искусственная ровная линия проходит в качестве границы между странами, и в Сомали считали это несправедливым. Хотя пустыня никому не нужна, но они говорят: "Эта часть земли наша!" Отсюда всё: и кровопролитие, и борьба... Ради этого несчастного куска земли…
— Истории действительно совершенно разные, и, судя по всему, у вас нет ответа, чем завершится СВО.
— Это и совершенно другой конфликт, другая ситуация для меня. Не думал, что когда-то такое может произойти. Распад Советского союза приветствовал обеими руками. Ходил на баррикады защищать Ельцина. Считал, что наконец пришло время, когда всё будет нормально. Оказалось, нет. А чем закончится? Наверняка всё придёт к естественному решению.

— В свете этих событий на российский и белорусский спорт обрушились небывалые санкции. Как к ним правильно относиться? Наверняка это не самый действенный механизм для скорейшего завершения конфликта.
— Да. Могу сказать, если так складывается, что нельзя ехать на Олимпиаду с флагом и гимном, нужно соревноваться там индивидуально. Потому что всё равно будем знать, что это наши спортсмены и будем за них болеть. Подобная несправедливость была допущена дважды в истории. В 1980-м году к нам в страну не приехали американские спортсмены и потеряли шанс стать олимпийскими чемпионами. А потом подобным действием ответили мы, не поехав в Лос-Анджелес в 1984-м. И вот здесь надо помнить, что в таких видах спорта, как плавание или гимнастика, у атлета есть едва ли не один олимпийский цикл, чтобы показать наивысший свой результат. И вот у какого-то нашего спортсмена была цель именно на Игры-1984, а ему говорят: "Ты не едешь". Он спрашивает: "Почему?". Отвечают, что не может быть безопасности для него на соревнованиях. Хотя на самом деле это был политический ответ. Но так нельзя, поскольку все конфликты разрешаются, а в итоге остается перечеркнута судьба спортсмена. И он будет переживать из-за этого до конца жизни. Поэтому надо ехать, защищать свои собственные интересы, интересы своей страны и соревноваться. Не нужно вставать в позу. Но, конечно, плохо, что без флага и гимна.
— На Олимпиадах в 1992-м в Альбервилль и Барселону наша общая сборная также поехала без флага и гимна и называлась сборной СНГ. Как команда себя ощущала внутри?
— Мне сложно сказать, но болел за всех спортсменов, как за единую команду. Яркий пример того времени — сборная СНГ по футболу на ЕВРО-1992, там сенсационно выиграли датчане. И в нашей команде был украинец Михайличенко, белорус Алейников. Я жил в одной гостинице с жёнами футболистов и мог почувствовать хорошую атмосферу сборной.
— Ваш самый близкий друг из белорусов?
— Из белорусов у меня самые близкие друзья — это хоккейные люди. Одно время писал для "Прессбола". Например, про молодого и перспективного на тот момент российского хоккеиста Алексея Ковалёва. Хорошо общались и с Сергеем Гончаровым, который трудился в ИИХФ. Поддерживаем общение с главой вашей федерации Александром Богдановичем. Так сложилось, что меня с Беларусью связывает именно хоккей. Часто вспоминаю 2014-й год, когда у вас проходил чемпионата мира, жили рядом с "Минск-Ареной" в гостинице "Славянская" и пешком ходил на главную арену форума. Хорошие вспоминания.
Недавно с Павлом Булацким вспомнили, как играли в футбол вместе. Он говорит: "Четверть века назад, на Олимпиаде в Сиднее". Я был в составе бригады ТАСС, а Павел — молодой начинающий журналист. И мы пришли к белорусской делегации в гости с предложением помочь нашей команде, поскольку не хватало людей сыграть в футбол. Вот так и вышли.
— Главная победа белорусского спорта?
— Конечно, вспоминается и победа белорусских хоккеистов над шведами в Солт-Лейк-Сити. А три золота Дарьи Домрачевой в Сочи! Кстати, девичья фамилия моей жены — Домрачева. И она её после замужества не поменяла. Занятно то, как происходила трансформация отношения к этой фамилии. Уже не говорю в России. А вот раньше, до того, как Дарья не была известна, при пересечении границы дозорные условно Германии долго вчитывались: "До-мрааа-тче-ваа". Сейчас немецкие таможенники тут же меняются в настроении: "А, Домрачева! Пуф-пуф-пуф", — и показывают стрельбу. Эта фамилия приобрела другое звучание и стала мгновенно считываться. Они уже не поймут сразу, что такое "Гусев". А вот "Домрачева" сразу.
— Да, хотя именно в те годы была некоторая разрядка напряжённости. И мне очень понравилась эта страна, стиль жизни. А почему был так заворожен? Потому что на четыре месяца приехал в другой мир, и казалось, что всё идеально вокруг, что все люди приятные. Но потом с американцами начал сотрудничать по спортивным проектам и понял, что процент хороших и плохих людей совершенно такой же, как и в другой стране, в том числе и в нашей. А тогда был очарован. Казалось, что любой американец — мой лучший друг.
— Любимое для вас произведение вашего дедушки, который был блестящим советским писателем?
— Он ведь недолго прожил, умер в возрасте 34 лет. Есть пьеса "Слава", которую ставили все театры страны. А в наши годы совершенно неожиданно режиссёр Константин Богомолов её реанимировал в Санкт-Петербурге в БДТ — и она пользуется успехом. Причём был уверен, что он сделает некий "стёб", но в итоге не изменил ни одного слова и не поменял текст.

— Это говорит о том, что время циклично?
— Наверное. И народ приходит, смеётся, аплодирует. Сейчас Богомолов говорит, что будет ставить ещё одну пьесу "Весна в Москве". Есть у дедушки и знаменитые песни "Полюшко поле", "В какой стране я не буду…". И их поют до сих пор. А также сценарии к фильмам: "В шесть часов вечера после войны", "Свинарка и пастух". Рассуждаю о том, сколько бы всего он мог написать, если бы не умер в 1944-м году? Да и как могла измениться судьба? Мой папа, который стал биологом, потерял отца в девять лет. И когда закончил школу с золотой медалью, пошёл на биофак с друзьями. Но будь жив дедушка, то точно бы поступил в литературный институт. И не встретился бы на биофаке с моей мамой — я бы не родился. Но такова жизнь. Читаю с удовольствием произведения дедушки и вижу скрытый юмор. Но он верил искренне в социалистическую идею. Мне, конечно, было бы интересно с ним поговорить, потому что между нами есть что-то общее.